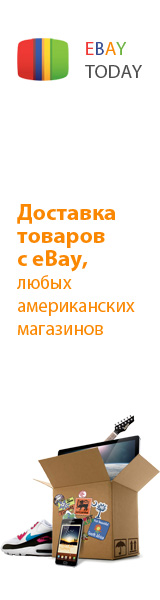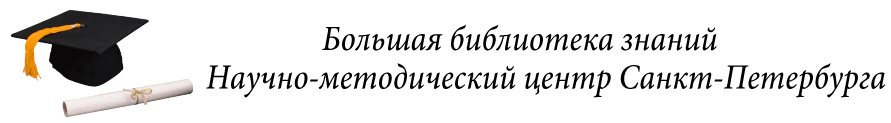
|
Рефераты |
Диплом: Французские простветителисебе убежище. В 12-й книге “Исповеди” написал о себе: “Отныне я буду на земле скитальцем”. Последние тринадцать лет этого мучительного существования в “Исповеди” не отражены. Руссо писал с 1765 по 1770 год, но прервал свою биографию на 1765 годе. О том, что было с ним в дальнейшем, приходится черпать сведения у его современников. В 1766 году Руссо отправился в Англию, приглашенный туда по ходатайству философа Юма герцогом Ричмондом. Находясь в Вуттоне близ Лондона, Руссо проявил больше интереса к местной растительности, чем к коренным жителям страны. Не покидал его страх, что злоумышленники проникнут в его дом, с целью похитить рукопись “Исповеди”. А Юма Руссо вскоре заподозрил в намерении сделать из него посмешище для всей Европы. К сожалению, английский философ не проявил сочувствия к мнительному гостю и опубликовал против него злую брошюру. Спешно вернувшись во Францию, Руссо под вымышленным именем скрывал свое местонахождение в дали от Парижа у приютивших его аристократов. С 1771 по 1778 год Руссо проживал в столице. Передовых людей века – энциклопедистов он давно превратил в своих недоброжелателей, им, а не себе приписывая вину. Ему не хотелось полностью отмежеваться от них, что видно из его обмолвки: “Иезуиты не любят меня не только как энциклопедиста”. По подсчетам Дидро – его “самого старого друга. Почти единственного оставшегося у него”, - Руссо потерял двадцать друзей из числа философов. Усугубляя свои муки, Руссо отталкивает от себя и тех, для кого его имя священно. В таком лихорадочном состоянии писал Руссо книгу с интригующим названием: “Диалоги: Руссо судит Жан-Жака” (1775 – 1776 гг.) О себе, еще раз о себе! Свою “исповедальную трилогию”, Руссо завершил “Прогулками одинокого мечтателя”, где звучат порой и грустные мотивы о личной его судьбе, но черным мыслям о вражде к нему всего мира он больше не предается. Этот неподражаемый дневник впечатлений и мыслей соединил узелком последние два года его жизни с оборванной на 1765 году биографией в go “Исповеди”. Своими раздумьями о себе и великих проблемах жизни это произведение отличается от заключительной части “Исповеди”, тем более – от “Диалогов”. Мало того, “Прогулки” – не только “придаток” к “Исповеди”, по определению Руссо, но и философский к ней ключ, в чем мы еще не раз убедимся. Увы, десятую “прогулку” оборвет безжалостная смерть. И вот незаметно для Руссо даже сухой рассказ о мелких событиях обыденной жизни бывает окрашен изменчивыми его настроениями, хотя он ничуть не искажает факты, если только не позабыл, не перепутал кое-что. Достоверен ли фактический материал “Исповеди”? Ведь память уже не молодая, и едва ли он проверял ее “вещественными и письменными материалами”, вследствие чего события то вспоминаются ему “живо, будто они только что произошли”, то воспроизводятся по рассказам других людей, часто весьма “смутным”. По данным компетентного руссоведа Д.Морне, “в самом существенном “Исповедь” точна, когда же она таковой не является, нет никаких оснований полагать, что Руссо умышленно нас обманывает”. Но есть и мнения другого рода. “Чем больше я вчитываюсь в корреспонденцию Руссо, отлично изданную Дюфуром, – пишет Ж. Геено, – тем больше укреплялся в убеждении, что жизнь Руссо была не такой, какой он ее себе представлял; иной, чем та, о которой он с честностью примерной рассказывает в “Исповеди”. Исследователи имеют в виду не хронологические ошибки, а эмоциональные аспекты, поставленные Жан-Жаком и покоряющие читателя своим субъективным восприятием вещей. Начинается “Исповедь” такой декларацией: “Я один. Я знаю свое сердце. Я создан иначе, чем кто-нибудь из виденных мной; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на свете”. Декларация эта вызывает удивление. Перед кем выставляет себя Руссо неподражаемо оригинальной личностью? Перед простым Людом, что ли? Но ведь не в привычке народа “мерить всех под один аршин” – оригиналов народ не любит, людей с резкими характерами уважает. Нет, именно потому, что Руссо кровно связан с простонародьем, он выражает гордость плебея-самоучки, занявшего одно из первых мест в ряду мыслителей Европы. Останься он в Швейцарии, пришлось бы ему довольствоваться профессией ремесленника. А почему Руссо говорит нам: “Я один”? По-видимому, этой первой короткой фразой “Исповеди” предупреждает читателя: Нигде не чувствует он себя единомышленником – ни в домах аристократов, ни в домах энциклопедистов, ведет себя порой диковато. Так у вольнодумной актрисы кино, чьи гости вели разговоры против религии, Жан-Жак прервал эти разговоры гневным восклицанием: “Отсутствующего друга поносить мерзко, а вы поносите вездесущего бога”, – вскочил и, хлопнув дверью, ушел. Не удивительно, Что за ним закрепились клички: “маленький хам”, “босяк” и тому подобное. С такими выходками на людях – как не сказать о себе, что он всегда “один”. И вот перед ними отнюдь не сухая по мере изложения автобиография, а выразительный, яркий “автопортрет”. Этот термин, обозначающий широко известный жанр в изобразительном искусстве, Руссо сам применил к “Исповеди”, назвавший ее: “мой портрет”. Живописец рисует свой автопортрет, глядя на себя в зеркало, а Руссо видит свой духовный облик, как сформировав его нелегкий жизненный путь, опираясь на свою память; его автопортрет – “движущийся во времени”. Кроме автопортрета, “Исповедь” содержит портреты других людей. Но если живописец в многофигурной композиции, обычно ставит себя, когда желает портретироваться, у самой почти рамы, то в “Исповеди” Руссо – в центре. Правдивости его автопортрета помогает ирония в отношении самого себя – ему ничего не стоит назвать себя “старым безумцем”, посмеяться над своими письмами влюбленного мальчишки – письмами “пафос которых способен был сокрушить скалы”, а правде портретов помогает, что он “довольно хороший наблюдатель”, и хотя в тот момент, когда наблюдает, разобраться не может, “потом все возвращается к нему – место, время, интонация, взгляд, жест, обстоятельство”. Никто еще до Руссо не обращался так часто к искусству самоизображения, так мастерски не “прилагал к своей душе барометр”. Что особенно подчеркивает Руссо в своем автопортрете? Странности характера и поведения. Так, в покойном состоянии он боязлив, стыдлив, иногда вял, иногда волнуется, не знает ни осторожности, ни страха, ни приличий, его охватывает дрожь, вот-вот замрет сердце. Редко бывает рассудительным, житейски трезвым. И противоречия в нем невообразимые. За четырнадцать лет до окончания “Исповеди”, в период первых двух трактатов, публичный успех которых внушил ему необычайную уверенность в себе, Руссо задумал сочинение, под названием: “Чувственная мораль, или Материализм мудреца». Из уцелевших набросков явствует, что в своих мыслях, чувствованиях, поступках человек носит следы ощущений, внутренне его видоизменяющих; на человеческий организм и душу влияют климат и время года, звуки и цвета, мрак и свет, движение и покой, конечно и пища. Изучив это влияние, человек способен продумать свой внешний режим и активно управлять своими чувствами, обращаясь к их источникам, “принудить животные силы служить на благо нравственному порядку и таким образом привести душу в состояние наиболее благоприятное для добродетели или удержать ее”. “Исповедь” перешагнула границы эпохи, когда умение связывать неразрывной цепью все звенья анализ считалось высшим достижением мысли. Заглянув в подпочву своей душевной жизни, Руссо открыл “бессознательные движения сердца”. Объяснить, почему в одних случаях его ум активен, а в других случаях будто выключен, почему так часты в нем коллизии между разумом и эмоцией, причем вторая берет верх, Руссо не мог, он – загадка для самого себя, но если не до конца распутал клубок нитей своего душевного комплекса, так хоть обнажил саму путаницу, а это уже немало. В авторе – он же герой “Исповеди” - противоположные начала действуют то сообща, то врозь, то совсем на время изгоняя одно другое. Хаос разнородных мыслей и чувств. Стало быть никакой цельности характера? А все же есть она, иначе не могли бы говорить о “самобытности, своеобразии” Руссо. Дело в том, объясняет он, что внешние влияния, которым он поддается, долго на нем не отражаются, и после всяких “толчков” возобновляется его “устойчивое состояние”. Цельность Руссо – это и неискоренимые его убеждения, и даже причуды его. Изменить свою натуру Руссо не хочет, не нужно это ему, раз он “лучший из всех людей”. Мудрость народную Руссо высоко ценил, ставил выше учености какого-нибудь философа. Бывают глубоко нравственные люди, не отдающие себе отчета, морально их поведение или нет. Но стоит кому-нибудь обещать свою “исповедь”, как с этим словом ждут рассказа о тяжких моральных испытаниях. Слово “исповедь” предполагает суровый взгляд на себя, как и непреоборимое желание поделиться с другими об этом. Не укладываясь в рамки ни “автобиографии’, ни “движущегося автопортрета”, исповедальный жанр предполагает какие-то страдания автора. Довольный собой и своим житьем-бытьем, человек вряд ли сядет за стол писать свою исповедь. Наконец, если общество более или менее устойчиво, человек, выворачивающий свою душу наизнанку, кажется феноменом патологическим даже себе самому, тем более другим. “Исповеди” Руссо повезло – две линии сомкнулись для нее: душевный кризис человека, охваченного мыслью, что среди людей все эфемерно – дружба, благодарность, уважение, и кризис общества, распад его устоев, загнивание и дискредитация его идеологической системы. Раздумывая о масштабах своей катастрофы, “бездны страданий”, Руссо вынужден сам защищать себя. Краткая речь, хотя бы и пылкая, немногих убедит, в других посеяла бы сомнения. Подчеркивая важность своей задачи, Руссо самим термином “исповедь” указывает на великий конфликт между ним и обществом, не понимавшим его и не желавшим понять. Итак, глубокий душевный кризис, а не эгоцентризм стоит за откровенным произведением Руссо: “Я слишком люблю говорить о себе”. Вряд ли кому другому из французских литераторов XVIII века выпало на долю столько горьких испытаний, хотя Руссо и не отведал тюремного заключения. Надо еще упомянуть брошюры, пасквили, статейки, порочившие его имя, высмеивающие его причуды, дискредитирующие его взгляды. В каких только в смертных грехах не обвиняли его! Даже бывшие друзья мизантропический характер, и горько было убедиться в “страшной призрачности человеческих отношений”. Наконец, разве могло быть душевное состояние его гармоничным, когда католики парижского парламента и протестанты швейцарских консисторий с равным усердием предавали анафеме его сочинения, грозили сожжением всего им написанного, отдавали приказы об его аресте? Летом 1770 года Руссо читал свою “Исповедь” группе знатных особ. Какова же была их реакция? Пять-шесть дней подряд слушать чтеца – признак глубокой заинтересованности. Однако мелькнувшему в печати сообщению, будто “все плакали”, противоречат заключительные строки “Исповеди”: автору, заверившему слушателей, что “рассказал правду”, лишь одна г-жа Эгмон “показалась взволнованной”. Все молчали, да «и она тоже скоро оправилась”. Словами глубокого разочарования прервал Руссо свою книгу: “Таков был плод, который я извлек из этого чтения и своего заявления». Когда через некоторое время литератор Дюсо сказал ему: “Повысит ли вашу репутацию писателя и честного человека “Исповедь” с ее чисто домашними, порой скандальными деталями? Кто только не писал мемуаров? Это мания наихудшего бумагомарателя” - Руссо ответил: “Я доволен вами. Будем по-прежнему друзьями”. Обескураженный Руссо даже своему поклоннику Бернардену де Сен-Пьеру, с которым вел задушевные беседы, не давал прочитать то, что было уже многим известно. И в добавление ко всему аристократка, когда-то встретившая его в Монморанси ласковой шуткой “Вот ваше убежище, медведь”, любезная г-жа д’Эпине донесла на Руссо в полицию, что угрожало обыском и конфискацией рукописи. По тем и другим причинам Руссо публичные чтения прекратил, и ничего больше не выдавало наличия трех текстов “Исповеди”. Свою “Исповедь” Руссо начинает словами: “Я предпринимаю дело беспримерное, которое не найдет себе подражания”. Это прогноз в отношении будущего, так как в прошлом у него были предшественники. Достаточно вспомнить “Исповедь” гиппонского епископа IV – V столетий - Августина. И Августин и Руссо писали свои исповеди с чувством громадной важности того, что они намерены сообщить людям. За год до смерти Руссо писал: “Я не захожу так далеко, как блаженный Августин, который, будь он осужден на вечные муки, утешался бы мыслью, что такова воля божья. Моя покорность проистекает из источника, правда, менее самоотверженного, но не менее чистого и, на мой взгляд, не менее достойного того совершенного существа, которому я покланяюсь”. Самокритика – понятие, вошедшее в обиход человечества с надписи на древнегреческом храме: “Познай самого себя”. Какой смысл в это слово вкладывает Руссо, узнаем из его оценки толкования самокритики французским литератором XVI века – Мишелем Монтенем. За то, что он не был безразличен к борьбе добра со злом, что выразил уже сомнение в благотворности цивилизации, только начинавшей развиваться после варварства средневековья, Руссо очень уважал Монтеня. Но здесь речь идет о степени самокритичности в его автопортрете, каким он выступает из очерков книги “Опыты”. Что Монтень придавал своему автопортрету большое значение, видно из его декларации: “если бы я написал эту книгу, чтобы снискать благоволение света, я бы принарядился и показал себя в полном параде. Но я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обыденным виде, непринужденным и безыскусным, ибо я рисую не кого-либо иного, а самого себя. Мои недостатки предстанут здесь, как живые, и весь облик мой таким, какой он в действительности, насколько, разумеется, это совместимо с моим уважением к публике”. Довольно прозрачная оговорка: в откровенности надо соблюдать меру, иначе благовоспитанная публика будет шокирована, от соблюдения же меры – никакого ущерба правдивости автопортрета. Эта оговорка возмутила Руссо. ”Наиболее искренние, - правдивы самое большое в том, что они говорят, но они лгут своими умалчиваниями, а то, о чем они умалчивают, так изменяет то, в чем они как будто признаются, что, говоря лишь часть правды, они, в сущности, не говорят ничего. Я ставлю Монтеня во главе этих мнимооткровенных людей, которые хотят обмануть, говоря правду. Он показывает себя со всеми недостатками, но выбирает из них только привлекательные; однако нет ни одного человека, у которого не было бы недостатков отталкивающих. Монтень рисует себя похожим, но в профиль. Кто знает, может быть, какой-нибудь шрам на щеке или выколотый глаз на той стороне лица, которую он скрыл от нас, совершенно изменил бы его физиономию.”. В завещанном потомству женевском тексте “Исповеди” Руссо снова напоминает, что “всегда смеялся над фальшивой искренностью Монтеня. Он как будто и признает свои недостатки, а вместе с тем приписывает себе только те, которые привлекательны” Не по-монтеневски, а по-руссоистски изображенный автопортрет выявляет “обе стороны лица”, и вот это означает “без прикрас”, ибо полуистина всегда есть ложь. Что касается благовоспитанной публике с ее чопорностью и показной стыдливостью, незачем угождать такой публике, гримасы которой при виде подноготной чужого характера объясняются ее собственной нечистоплотностью. Люди – не ангелы. “Как бы ни была чиста человеческая душа, - говорит нам Руссо, - в ней непременно таится какой-нибудь отвратительный изъян”. Именно потому Руссо не скрывает свои “отталкивающие недостатки”, благодаря чему автопортрет его превращается в исповедь. В литературном произведении писатель, угадывая наилучшие возможности своего персонажа, часто создает не только образ, но и образец человека. Дистанция между “сущим” и “должным” у разных художников слова не одинаковая, но если дистанция слишком велика – фальшь неминуема. В исповедях дистанцировать нельзя. В исповеди нельзя не проявить и “достаточно точное знание самого себя, и «героизм чистосердечия”. Как раз этого и добивался Руссо. Только прогноз относительно, что “дело” его “беспримерное, которое не найдет себе подражания” удивляет: в силах ли человек предугадать возможности будущего? Начальная декларация “Исповеди”: “Я один. я не похож ни на кого на свете” - мною прервана; далее сказано: “И если я не лучше других, то по крайней мере не такой, как они”. Это еще скромно, а вот слова: “Я всегда считал и теперь считаю, что я, в общем, лучший из людей” - это уже подходит на самовозвеличие. Попробуем, однако, разобраться. В нравственном отношении лучший потому, что не скрывает ничего из своих проступков. Твердо зная, что “истина нравственная во сто раз больше заслуживает уважения, чем истина фактическая”, чем “подлинность самих предметов”, Руссо готов обнажить “самые интимные и грязные лабиринты” своей натуры. Но теперь встает вопрос: кто же в праве определить эти изъяны, чтобы вынести приговор моральному облику исповедующегося? Исповедуется он не перед священником, а перед “человечеством”. Сам Руссо не считает нужным оправдываться? Да ведь это значило бы, что он ничего дурного никогда не совершал, никогда ни кого не обманывал, между тем, увы, совершал и обманывал. Цитата из “Прогулок”: “Да, временами я лгал, но лишь относительно предметов мне безразличных.”, “О большом зле мне не так стыдно говорить, как о мелком”. В заключительной части ответа: “быть справедливым” - намекается на возможность полного оправдания. При этом со стороны не единичного читателя и даже не многих, арифметика тут бессильна, а со стороны некоего символического Читателя с большой буквы – лишь такой мог бы, взвесив на весах справедливости дурное и хорошее, решить, что перевешивает. Угнетаемый думами о неисправности окружающего и, как ему мерещиться, озлобленного против него мира, Руссо находит для себя утешение, источник неубывающей надежды, “опору”, нужную для того, чтобы “переносить свои жизненные беды”. В чем же? В “нравственном порядке” вещей и в “естественных законах” природы. Благодаря этой опоре Руссо превращается из слабого человека, который “не в силах опровергнуть неразрешимые противоречия” своего духа, в титана, идущего избранным путем «наперекор людям и судьбе”. Рациональными понятиями, объясняющими эту счастливившую Руссо идейную “систему”, он не обладает, и, зная, что им затронуты феномены, “превышающие человеческое понимание”, ему остается только воскликнуть в “Прогулке третьей”: “Разве это рассуждение и сделанный мной из него вывод не кажутся продиктованными самим небом?” В детстве страдания других волновали Жан-Жака больше собственных. Вздохи, сопровождавшие ласки отца, как только заходила речь спокойной матери, немедленно вызывали в нем отклик: “Значит, мы будем плакать, отец”. Готовность Жан-Жака волноваться по каждому значительному и пустячному поводу объясняется и впечатлительностью его натуры, и положением сироты, которого обычно больше жалеют, чем любят, и средой скромных женевцев с их вкусом к трогательным житейским ситуациям. Еще ребенок, а уже способен терпеть физическую и нравственную боль ради других. Однажды Жан-Жак заслонил своим телом наказываемого ударами палки старшего брата. В детском уме его, читавшего вместе с отцом своим Плутарха, сложился идеал античного героя: Муций Сцевола в плену сжег свою руку, чтобы доказать стойкость римлян, а маленький Жан-Жак протянул свою руку над пылающей жаровней, к ужасу всех бывших тогда в комнате. Помимо “врожденного чувства справедливости”, Жан-Жак получил в своей семье “здоровое и разумное воспитание”; несмотря на отдельные ошибки его родных, никогда он “не был ни свидетелем, ни жертвой каких-либо злобных чувств”. Семье своей Руссо обязан “гордым и нежным сердцем, послушным нравом”, склонностью к “римской суровости” и в равной степени к невинным детским забавам. И все-таки “порча” Жан-Жака началась еще в детстве, когда его низа что обвинили в поломке гребня и высекли. Скажи, что он виновен, его бы не тронули, но он молчал, потому что вины за ним не было, взрослым же казалось, что это “дьявольское упрямство”. Пятьдесят лет спустя Жан-Жак рассказывает: “Мне легче было умереть, и я решился на это”. Навсегда он запомнил свое переживание. С этого момента в сердце ребенка вторгалось зло, честный нрав мальчика начал портиться. По-другому он относится к своим воспитателям: “привязанность, дружба, уважение, доверие уже не соединяли больше” его с ними. Его теперь отличает скрытность, а в ней есть уже зачаток порока. Сельская жизнь утратила для него обаяние сладостного покоя и простоты, как бы покрывшись пеленой, скрывавшей от него ее красоту. То был первый крах иллюзии в отношении “мнимых богов, читающих в наших сердцах”. Жизнерадостный его характер помрачнел. Канцелярию городского протоколиста Массерона, где Жан-Жак недолго обучался делу судебного крючкотвора, он вспоминает с отвращением, и с ужасом – мастерскую гравера Дюкомена, хотя это ремесло нравилось ему. С ужасом – по причине грубости, хамства, избиений, на которые был щедр хозяин мастерской. Угрюмым стал здесь Жан-Жак, приобрел вкус к безделью, впервые стал обманывать и воровать. Ничто не оправдывает шестнадцатилетнего Жан-Жака в глазах Руссо, пишущего “Исповедь”. Но автор этой книги анализирует душевное состояние юноши в момент, когда уста его излагали гнусную ложь. То не пустые слова, что сердце Жан-Жака чуть не разорвалось от горя, что жертве своей клеветы он отдал бы всю свою кровь до последней капли. “Стыд был единственной причиной его бесстыдства.” Стыд прослыть вором. Учтите и «его годы, ведь он только что вышел из детского возраста, вернее – еще пребывал в нем». Однако всю жизнь Руссо не переставал ощущать угрызения совести. Среди многочисленных биографических исследований есть тема: “Друзья и враги Руссо”, есть так же тема: “Руссо и женщины”. Были дамы, преклонявшиеся перед его талантливостью и, не дальше того, были охотно будившие его чувственность, начиная с хозяйки лавки в Турине г-жи Базиль; некоторые, напротив, охлаждали его пыл, как госпожа Мабли в Лионе, мадам Дюпен в Париже; иные бывали, напротив, активнее его, как госпожа Ларанж – с ней он познакомился в дни поездки на целебные воды. Конечно интерес представляют не анекдотические амуры, питаемые часто его воображением, а те любовные связи Руссо, которые ставили его перед трудными вопросами морали. Одной из ситуаций, ставящей в тупик читателя «Исповеди», является роман Жан- Жака с госпожой Варанс. Впрочем, подходит ли тут слово “роман”? В ее доме, Жан-Жак избавлен от необходимости лгать, вернул себе невинность детских лет. Между тем к здоровой простоте вдруг примешались неожиданные сложности; в орешке чистоты и нравственности оказалось ядро кой чего нравственно сомнительного. Длительный отрезок времени Жан-Жак и госпожа Варанс умиляют нас ласковым обращением друг к другу: “маменька” - “малыш”. И вдруг – не по собственной инициативе – семнадцатилетний Жан-Жак открыл в тридцатилетней женщине, усыновившей его, если не юридически, то фактически, помимо “сердца матери” еще и “душу любовницы”. Она, видите ли, забеспокоилась по поводу того, что он с удовольствием обучал пению “любезных, прекрасно одетых девушек», вдыхая при этом “аромат роз и флердоранжа”. Вскоре Жан-Жак открыл для себя нечто куда более озадачивающее: госпожа Варанс делила свою “душу”, половину отдавая ему, половину своему лакею Клоду Ане, и нельзя не сказать, что Жан-Жак с этим мирился гораздо легче, чем его старший годами и более глубокий чувствами соперник. Что в своей ранней поэме “Сад в Шарметтах” Жан- Жак освятил госпожу Варанс воплощением целомудрия. В «Исповеди» отсутствует малейшая попытка судить не щепетильность госпожи Варанс в делах женской чести. Скорее оправдывает ее рассуждение о том, что при “ледяном темпераменте” ее связи являются не погоней за “сладострастием”, а неким “самопожертвованием”, что, склонная к “безупречной нравственности”, она была сбита с пути истины цинизмом своего покойного мужа. Так объясняет Руссо поведение госпожи Варанс. Очевидно, доброта, щедрость, проявившиеся к нему, перевесили на весах морали ее бесстыдство. Не любовная их связь осчастливила его, в чем Руссо откровенно признается, а уют, который он – нищий бродяжка – внезапно обрел. И все-таки отношения Жан-Жака и госпожи Варанс смущают читателя. Нелегко объяснить и другой эпизод: одновременно, когда Руссо разоблачал нечистого на руку французского посла в Венеции, он встречался с куртизанкой Джульеттой. При госпоже Варанс Руссо еще юно, теперь ему тридцать два года. Джульетта, по-видимому, относилась к нему серьезней, чем он к ней, иначе не уехала бы она тайком из своего дома во Флоренцию, разгневанная его странностями. Лет через восемнадцать любовные приключения героя “Новой Элоизы” - Эдуарда Бомстона, тоже развертывающиеся в Италии, кончаются любовью к нему проститутки Лауры. У Руссо в Венеции, судя по “Исповеди”, нет ничего похожего на коллизию Бомстона между родившимся в нем чувством и консервативной моралью, однако не исключено, что в подсознании своем Руссо уже смутно переживал то, что легло впоследствии в основу его трагической новеллы. Наконец его роман с графиней д’Удето. Они встречались у госпожи д’Эпине, чей домик в парке занимал Руссо, почти ежедневно гуляли в лесу, при свете луны ночами сидели вдвоем. Объяснять их свидания лишь тем, что графине льстила любовь прославленного философа и литератора, слишком упрощает вопрос – в сорокапятилетнем Руссо не угасала еще душа юного романтика.Но госпожа д’Удето имела любовника – офицера Сен-Ламбера, находившегося в то время в армии. И слезы Руссо от невозможности обрести счастье в объятиях Франсуазы д’Удето смешивались с ее слезами верности своему любовнику и жалости к страдающему другу. Вскоре Сен-Ланбера уведомили, что происходит в его отсутствие, и он в письме потребовал от госпожи д’Удето не навещать больше Руссо. Чего ждет читатель, придающий слову “исповедь” моральное значение, от ее автора? Раскаянья по поводу двух измен, которыми он запятнал себя – и в отношении жены Терезы, и в отношении друга Сен –Ламбера? Напрасно ждать. По- видимому, Руссо не усматривал вины в том, что было между ним и госпожой д’Удето, или считал эту вину своей трагедией: счастье так редко в жизни, а эта страсть из всех его увлечений женщинами единственная настоящая любовь, первая и последняя. Вспоминая в “Исповеди”, как он писал свой роман о Юлии и Сен-Пре “в самом пламенном экстазе”, Руссо не скрывает, что “Новая Элоиза” - сублимация его интимных отношений с госпожой д’Удето и что “среди многих любовных с ней восторгов” он “сочинил для последних частей “Юлии” несколько писем, насыщенных упоением”. Еще кое-что сообщает нам “Исповедь”. Оказывается, пятерых своих детей Руссо младенцами отдал в дом для сирот и никогда в дальнейшем не интересовался их судьбой. Удивительно: в книге «О воспитании» он требовал, чтобы при всех условиях, и в богатстве и в нищете, родители сами растили своих детей, не передоверяя это чужим людям, ибо семья – первооснова всех добродетелей. Требовал от других, а сам. Чем же Руссо объясняет и тут же оправдывает свой поступок? Он, видите ли, предпочел, чтобы из его детей вышли “рабочие и крестьяне, а не авантюристы и ловцы счастья”. Существует версия, будто вся история с детьми – вымысел Руссо, не было у них с Терезой детей. Объяснить этот вымысел еще труднее: автор “Исповеди” выдает себя за гуманнейшего из всех людей на свете и сам же приписывает себе бесчеловечный поступок. Водовороты жизни, лишенной спокойного течения семьи и школы, сделали Руссо таким. Касаясь странностей его поведения, Дидро категорически (в письме к Софии Волан) утверждал: “В здании, воздвигнутом морально, все связано между собой. Беспорядочность ума оказывает влияние на сердце, а беспорядочность сердца влияет на ум”. Следовательно, речь и характер, характер и жизненные правила должны быть в полной гармонии. А вот Руссо в “Прогулке третьей” говорит о себе, ни чуть не смущаясь: “Я дожил до сорока лет, блуждая между бедностью и богатством, благоразумием и безумством, полный пороков, вызванных привычкой, но не имея дурных склонностей в сердце, живя наудачу, без твердо установленных правил и нерадивый к обязанностям – не потому, чтобы презирал их, а потому, что часто не знал, в чем они заключаются”. И еще в “Прогулке четвертой”: мой темперамент сильно повлиял на мои правила или, вернее, - на мои привычки, потому что я почти не действовал по правилам или не слишком следовал в чем бы то ни было иным правилам, кроме побуждений своей природы”. Руссо избегает однолинейных решений в морали. Отвергает прописную мораль ханжей, святош, лицемеров. На собственном опыте убедился, до чего сложны взаимодействия обстоятельств и человека, принимая во внимание различия характеров, натур. На пол пути остановился Руссо в своих поисках границ, раз навсегда установленных профессиональными моралистами. Порой сам он рассуждает, как завзятый моралист, но ему хотелось бы такой морали, которая помогала бы человеку разбираться в сложных, противоречивых ситуациях жизни, не угрожая ему отлучением. Если ум его – ретадирующий, запаздывается, - это для автора «Исповеди» еще полбеды, но ретардация совести – постоянный для него предмет огорчений, и оправдывается он слабостью характера. Часто спотыкался Руссо на ухабах действительности, где все гораздо сложнее, чем в моральных доктринах; особенно учитывая его неправдоподобно авантюрную, расточительно-безрассудную жизнь. И если «Исповедь» - последнее сочинение Руссо, то совершенно очевидно, что чаще убеждался он в силе страстей, чем в силе разума. В общественной жизни как будто легче разграничить хорошее и дурное, “правду и кривду”. Тут “Исповедь” повернута к нам другой своей стороной. Решительно отрицая, что заложенное в человеке природой нравственное начало слабее реальной действительности, Руссо уверен: добро в силах победить зло, только путь людей к добру извилист, потому что “совершенных существ природе нет”. В ранней статье Руссо “О политической экономии” написано: “Уже поздно спасать нас от самих себя, когда человеческое “я”, однажды поселившись в наших сердцах, начало там эту достойную презрения деятельность, которая поглощает всю добродетель и составляет всю жизнь людей с мелкой душой. Как могла бы зародиться любовь к отечеству среди стольких иных страстей, ее заглушающих?” Естественное чувство самосохранения превращается в эгоизм, когда наше “я” разбухает сердце – вроде микроба страшной болезни, от которой вылечиться “уже поздно”, и окончательно атрофируется то, что издавна именуют “совесть”. В своем письме Руссо наставлял одного юношу: “Созерцательная жизнь есть леность души, достойная порицания для всякого возраста; человек создан не для того, чтобы размышлять, а чтобы действовать”. И тот же Руссо говорит о себе в “Исповеди”: “Я создан для размышлений, а не для действий”. Тем не менее, хотя из-за бедности и внимания к его особе со стороны полиции он вынужден жить в домах вельмож, но сочиняет там не оды, прославляющие их и монаха, а “Эмиля”, “Новую Элоизу” и, что всего примечательнее, “Общественный договор” наконец, в книге, поставившей автора лицом к лицу с соборным Человечеством, в отрыве от реального общества, - в “Исповеди” имеется такое высказывание: “Благодаря изучению нравов я увидел, что все коренным образом связанно с политикой, и как бы ни старались это изменить, каждый народ будет только таким, каким его заставляет быть государственный строй”. Не потому ли Руссо избегает людей, что аристократы ему приелись, а народную массу заслоняет от него бесформенный грубый облик уличной толпы? Разве тогда народ понять Руссо как политического мыслителя, тем более его художественное творчество? “Когда образованные люди читали “Новую Элоизу” и “Общественный контракт”, - говорит Чернышевский, - французские грамотные простолюдины еще читали лубочные издания искаженных остатков средневековой литературы”. *¹ Даже грамотные, а ведь неграмотных было тогда большинство. Что же говорить об “Исповеди”, которую и образованные круги, и энциклопедисты фактически отвергли. Не ________________________________________________ *¹ Н.Г. Чернышевский. Пол. собр. соч., т. VII, с. 432 общается Руссо с молодежью, далеко не равнодушной к его идеям, с которыми связывала пути в будущее. Вот где одна из причин отшельничества у позднего Руссо. Многократно вспоминает автор “Исповеди”, что задолго до того, как преобладающим его желанием стало одиночество, он ощущал себя счастливым во время переходов через горы, новичок в лесу на траве, и немало размышлял он о том, что одиночество избавляет от всяких принуждений и обязанностей. В старости он убедился еще, что “умен лишь в своих воспоминаниях”, среди людей же, редко умных, сам глупеешь. Что такое скука, как могут люди скучать – Руссо еще не знает. Не мало в “Исповеди” страниц, звучащих как отвращение к многолюдью. Склонность Руссо к уединению обусловлена и субъективными настроениями, и объективными размышлениями о том, что между цивилизацией и человеческой личностью имеется не то, что трещина – целая пропасть. Иногда “Исповедь” - это бунт, призыв к борьбе против изолгавшегося социального мира, иногда - стремление бежать от людей, превратиться в отшельника. Однако Руссо видел также изнанку одиночества, на самом себе убеждался, что когда живет лишь “внутренним существом”, то воображение его иссякает, мысли гаснут “и не дают никакой пищи сердцу”. Кто лучше, чем Руссо, знал, что человек не может жить, замкнувшись в себе и только для себя, что глубочайший смысл жизни – в служении обществу? Оснований принимать Руссо за нелюдима “Исповедь” дает много, и все же это не евангелие отшельничества. 2.3 “Юлия или новая Элоиза” Ж.-Ж. Руссо С просветителями Руссо роднили демократизм гуманизм и деизм. Однако, жизнь и воспитание в протестантской Швейцарии наложили отпечаток на мировоззрение философа и писателя. Как все просветители, он критически относился к церкви и духовенству, отстаивал принцип свободы воли; призвал бога в качестве создателя, но не промыслителя; защищал свободу совести, право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, быть атеистом; выступал против стеснения свободы совести в любой форме. В отличие от просветителей, особенно от Дидро, мы не находим у Руссо ни последовательной эволюция его взглядов по вопросам религии и церкви, ни воинствующего антиклерикализма, ни антирелигиозных эскапад, эпатирующих высшее общество ХVIII века. В то же время литературные произведения Руссо позволяют сделать вывод о четкой позиции автора, о серьезных раздумьях по поводу религии, ее месте в жизни человека, о достойных человека формах проявления религиозности, о внутренней религиозности и чисто внешних формах ее проявления - набожности. С этой точки зрения особый интерес представляет роман в письмах “Юлия, или новая Элоиза”. Подзаголовком романа является: “Письма двух любовников, живущих в маленьком городке у подножия Альп”. Любовные отношения героев романа Юлии и Сен - Пре повторяют историю средневекового богослова Абеляра и его ученицы Элоизы - их переписка ХII столетия была широко известна в ХVIII в. По существу же трагическая ситуация, в которой очутились реально существовавшие любовников ХII в., не имеет почти ничего общего с драмой вымышленных любовников, происходило будто бы в 30-х годах ХVIII века. Замысел “Юлии или Новой Элоизы” создавался постепенно. Играл в нем роль и знаменитый памятник средневековой латинской литературы — “Письма Элоизы к Абеляру”, и анонимные ”Письма португальской монахини”. Из этих присеем, ровно как и из романов Ричардсона, Руссо заимствовал эпистолярную форму своего романа, позволившую ему с наибольшей полнотой раскрыть внутренний мир героев, заставить их говорить языком сердца и избежать рационализма объективных описаний. Наконец, в романе Руссо звучат и личные переживания. Они связанны отчасти с пребыванием в Монморанси с любовью к мадам д’Удето, отчасти – с воспитанием любимых Руссо швейцарских пейзажей, Альп, озер, горных пастбищ и маленьких городков, покоящихся у подножья гигантских горных массивов. Во время предисловий к роману Ж.-Ж. Руссо по поводу религиозных проблем высказывания устами одного из героев диалога: Н: “..Христианка, благочестивая женщина, не желает обучать своих детей катехизису, а умирая, не хочет помолиться богу. И вдруг оказывается, что ее смерть наставляет в вере пастора и обращает к богу атеиста!” Однако это число внешняя сторона, схематически обрисованная в то время, как в самом романе, в письмах Юлии, в ее рассуждениях на всевозможные темы: о нравах, об изнанке светской жизни, о богословских вопросах, о жизни и смерти, об отношении к самоубийству и т.п., в ее поступках и их основании, в образе Вольмара, мужа Юлии – перед нами мысли и рассуждения в духе “Исповеди савойского викария” из книги об Эмиле, т.е. самого философа. Успех “Юлии или Новой Элоизы” у современников Руссо объяснился, конечно, не ее сюжетом, не происшествиями жизни героев. Он таился в обрисовке перипетий их чувств, в пафосе проникающей роман страсти, в тонком анализе всех оттенков сердечных взаимоотношений героев. Роман отчетливо распадается на две част. Выход Юлии замуж за Вольмара развязывают первый сюжетный узел. Автор мог бы здесь поставить точку и не интересоваться дальше судьбой своих героев. Тогда был бы закончен роман чувствительной страсти, и читателей трогала бы история неудавшейся любви новых Абеля и Элоизы. Однако Руссо завязывает второй сюжетный узел, обращающийся впоследствии решения Вольмара пригласить Сен- Пре к себе в дом. С этого момента начинается роман испытания добродетели. Подобная конструкция “Новой Элоизы” не является случайной. Она обусловлена самим существом руссоизма как литературного явления, сочетавшего в себе стремление к чувствительному живописанию страсти с морально - дидактическим толкованием жизни человеческого сердца. Этот моральный дидактизм определяет целиком всю вторую половину романа, где даже сам уклад жизни Жюли и Вольмара в их доме в Кларане о руссоистской идеализацией. Героиня романа разделяет взгляды своего создателя. Ее устами, образом жизни автор утверждает: бог есть, бог создатель мира, но верить в его существование - это не значит сковывать свою жизнь, свои чувства постоянно оглядываясь на предписания церкви и даже библейские предписания. Во-первых, эти предписания не совпадать, ведь могут совпадать, ведь время и условия меняются, меняется и сам человек. Во-вторых, человек должен поступать добродетельно не из чувства страха перед загробным наказанием, ибо тогда он становится неискренним, поступающим не в соответствии со своей совестью, ибо бог предоставил человеку свободу воли. Правда, в соответствии с руссоистской философией возлюбленный Юлии отмечает в одном из своих писем, что под влиянием внешних условий изменяется и тот образ божий, который соответствует природе и который есть в нем. В ответ Юлия возражает ему, что “разум вернее всего предохраняет и от фанатизма”. Признаваясь в том, что она глубоко верующая и рассказывая о своей вере, Юлия признается, что долгое время пребывала в неверии, хотя в нельзя сказать, что она не была набожна и добавляет: “.Лучше вовсе не быть набожной, нежели обладать внешним и нарочитым благочестием, которое не умиляет сердце, а только успокаивает совесть, нежели ограничиваться обрядами и усердно чтить господа бога лишь в известные часы, дабы все остальное время о нем и не помышлять”.*¹ __________________________________________________ В этом письме Юлия пишет, что “все существует лишь по воле вседержителя. Он придает цель правосудию, основание - добродетели, цену - краткой жизни, ему посвященной... Он в своей неизменной сущности являет истинный прообраз всех совершенств, отражение которых мы носим в своей душе”. Если же страсти стремятся исказить этот образ, на помощь приходит здравый смысл. Только разум в состоянии определить разницу между божественным образом и лжемудрстовованиями и заблуждениями. “Созерцая этот божественный образец, душа очищается и воспаряет, она научается презирать низменные свои наклонности и преодолевать свои недостойные влечения”. Итак, юная Юлия становиться искренней верующей, смиряется со своими страстями и становится добродетельной супругой нелюбимого человека в соответствии со своими религиозными убеждениями. Руссо - деист здесь приходит в противоречие с Руссо - автором “Общественного договора”. Кальвинизм побеждает. Казалось бы, в дальнейшем вся жизнь и рассуждения Юлин соответствуют учению кальвинизма с его практической этикой, требованием подтверждать веру земными делами во имя и счастья людей здесь, на земле, что особенно ярко отражается в призыве делать добро для людей в последние дни жизни Юлии и особенно в с предсмертных рассуждениях и разговорах с протестантским священником. Но Руссо |
|